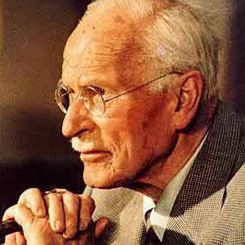Аналитик, символизация и отсутствие в аналитическом сеттинге (об изменениях в аналитической практике и аналитическом опыте) - памяти Д. В. Винникотта
Андре ГринАналитик, символизация и отсутствие в аналитическом сеттинге (об изменениях в аналитической практике и аналитическом опыте) - памяти Д. В. Винникотта
Андре Грин
Впервые опубликовано в 1975 Int. J. Psycho-Anal., 56:1-22
Краткое содержание
В этой работе автор руководствуется собственными соображениями, но в то же время принимает в расчет вклад других аналитиков.
Акцент ставится на внутренних изменениях аналитика, чтобы показать, что необходимо обращать внимание не только на внутренние изменения пациента, но и на то, как они дублируются внутренними изменениями аналитика, благодаря способности последнего создавать, по принципу дополнительности, в своем психическом функционировании фигуру, гомологичную фигуре психического функционирования пациента.
Проблема показаний к анализу рассматривается с точки зрения разрыва между восприятием аналитика и материалом пациента, а также с точки зрения оценки того, как сообщения аналитика оказывают мобилизующее воздействие на психическое функционирование пациента, т.е. на возможность - которая по-разному проявляется в каждом отдельном случае и с каждым отдельным аналитиком - формирования аналитического объекта (символа) посредством встречи двух участников.
При описании имплицитной модели пограничного состояния доминирующее положение отводится расщеплению (условие формирования дубля) и декатексису (стремления к состоянию нуля), что показывает нам, что пограничные состояния ставят вопрос об ограниченных возможностях анализа перед лицом дилеммы «бред или смерть».
Особое внимание уделяется аналитическому сеттингу и психическому функционированию, в попытке структурировать условия, необходимые для формирования - через символизацию - аналитического объекта, с учетом вмешательства в отношения двух участников третьего элемента, т.е. сеттинга.
Место первичного нарциссизма дает нам точку зрения, которая дополняет предшествующую. Другими словами, наряду с пбрными коммуникациями объектных отношений существует инкапсулированное личное пространство, нарциссическая область, позитивно катектированная в безмолвном «я» бытия или негативно катектированная в стремлении к небытию. Существенное для психического развития измерение отсутствия находит свое место в потенциальном пространстве между «я» и объектом.
Эта работа не претендует на то, чтобы разрешить кризис, с которым столкнулся психоанализ; она лишь выявляет некоторые противоречия, присущие теоретическому плюрализму и разнородной практике. Мы попытались прежде всего создать образ психоанализа, отражающий личный опыт и придающий ему концептуальную форму.
Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?
У. Блейк. Тигр.
Неясное древнее приключение все влечет
Меня. Оно безрассудно. Я целыми
Днями ищу тигра того, другого
Которого нет в стихотворении.
Х.Л. Борхес. Другой тигр.
Каждый аналитик знает, что важным условием решения пациента пройти анализ является неудовольствие, возрастающий дискомфорт и, в конце концов, испытываемое пациентом страдание. Что верно в этой связи для индивидуальной терапии, то верно и для психоаналитической группы. Несмотря на видимое процветание, психоанализ сейчас переживает кризис. Он страдает, если можно так выразиться, от глубинного недомогания. У этого недомогания есть как внутренние, так и внешние причины. Долгое время мы защищались от внутренних причин, сводя к минимуму их значимость. Дискомфорт, причиняемый нам внешними причинами, достиг той точки, в которой мы теперь вынуждены попытаться проанализировать эти причины. Будем надеяться, что мы, как психоаналитическая группа, несем в себе то, что ищем в наших пациентах: желание измениться.
Любой анализ нынешней ситуации внутри психоанализа должен осуществляться на трех уровнях: 1) анализ противоречий между психоанализом и социальным окружением; 2) анализ противоречий в сердце психоаналитических институтов (этих посредников между социальной реальностью, с одной стороны, и психоаналитической теорией и практикой - с другой); 3) анализ противоречий в сердце самого психоанализа (теории и практики).
Мы сталкиваемся с трудностями относительно внутренней связи этих трех уровней. Если их смешать, это приведет к путанице; если разделить - к расщеплению. Если бы нас полностью устраивало нынешнее состояние одного только третьего уровня, мы были бы склонны игнорировать два других. Тот факт, что это случается не всегда, несомненно, связан с факторами, действующими на первых двух уровнях. Впрочем, я должен буду сейчас оставить честолюбивую задачу четкого описания трех уровней. В настоящий момент мы располагаем достаточным материалом, чтобы попытаться исследовать некоторые противоречия в психоаналитической теории и практике, благодаря которым возникло вышеупомянутое недомогание. Анна Фрейд (1969) в своем ясном и мужественном анализе «Трудностей на пути психоанализа» из различных источников, напоминает нам, что психоанализ обрел путь к познанию Человека через негативный опыт невроза. Сейчас у нас есть шанс узнать о себе посредством нашего собственного негативного опыта. Наш нынешний недуг может дать начало проработке и преображению.
В этой работе, посвященной недавним изменениям, произошедшим благодаря психоаналитической практике и опыту, мне бы хотелось исследовать три следующих вопроса:
1) роль аналитика в контексте более широких представлений о контрпереносе, включая проработку воображения аналитика; 2) функция аналитического сеттинга и его отношение к психическому функционированию, как это показывает процесс символизации; 3) роль нарциссизма, которая противостоит роли объектных отношений и дополняет ее, как в теории, так и на практике.
Изменения в сфере психоанализа
Оценка изменений: объективный и субъективный взгляд
Поскольку я решил ограничиться недавними изменениями, я вынужден, к сожалению, отказаться от рассмотрения того, как психоанализ постоянно изменялся и развивался с самого начала. Это верно как в отношении работ самого Фрейда (в этом можно убедиться, если заново прочесть работы Фрейда в хронологическом порядке - 1904, 1905, 1910b, 1910a, 1912a, 1912b, 1913, 1914, 1915, 1919, 1937a - последовательность статей от «Психоаналитической процедуры Фрейда» (1904) до «Конечного и бесконечного анализа» (1937)), так и в отношении работ самых первых его коллег. Среди последних нам следовало бы, конечно, отвести особое место Ференци, который в своих поздних работах (1928, 1929, 1930, 1931, 1933) в патетической, противоречивой и зачастую неуклюжей манере предвосхитил будущие течения. Но если исполненные инсайтов изменения непрерывны, то восприятие их, как и в анализе, напротив, прерывно. Зачастую (и, конечно, именно так обстоит дело сегодня) представления об изменениях, сформулированные отдельными авторами за двадцать лет до того, становятся повседневной реальностью для каждого аналитика. Так, чтение психоаналитической литературы покажет, что уже в 1949 году Бален озаглавил одну из своих работ «Изменение терапевтических целей и техник в психоанализе» (Balint, 1950), а Винникотт в работе 1954 года «Метапсихологические и клинические аспекты регрессии в системе психоанализа» сформулировал основы нашего нынешнего понимания проблемы (Winnicott, 1955).
В первом приближении эта проблема рассматривается с «объективной» точки зрения, поскольку заставляет нас изучать пациента «в нем самом» («en soi»), причем в большинстве случаев аналитик не принимается во внимание. Кан (Khan, 1962) приводит впечатляющий список примеров, предъявляющих новые требования к аналитической ситуации. Он вводит термины, известные сейчас каждому аналитику, и ведет речь о пограничных состояниях, шизоидных личностях (Fairbairn, 1940), «как будто» личностях (H. Deutsch, 1942), нарушениях идентичности (Erikson, 1959), специфических дефектах эго (Gitelson, 1958), ложной личности (Winnicott, 1956) и базисной вине (Balint, 1960). Список можно продолжить, включив в него достижения французских аналитиков: догенитальные структуры (Bouvet, 1956), оперативное мышление психосоматических пациентов (Marty & de M»Uzan, 1963) и анти-анализируемый (McDougall, 1972). Сейчас всех занимает проблема нарциссической личности (Kernberg, 1970, 1974; Kohut, 1971). Тот факт, что большинство описаний, вновь открытых последними диагностическими исследованиями, оказались столь долговечными, наводит на размышления - не обязаны ли нынешние перемены не более, чем возросшей частоте подобных случаев.
Изменения, зафиксированные двадцать лет назад, теперь окончательно утверждаются в правах. И теперь наша задача - попытаться обнаружить признаки будущих изменений. Здесь я больше не буду рассматривать объективный подход, а вместо этого обращусь к субъективному. За рабочую гипотезу я приму идею о том, что осознание начинающих происходить сегодня изменений - это осознание изменений внутри аналитика. В мои намерения не входит описывать, каким образом на аналитика влияет отношение к нему Общества или какое действие на него оказывают наши методы отбора, подготовки или общения. И хотя все эти факторы, безусловно, важны, я ограничусь теорией и практикой, проистекающими из аналитической ситуации: т.е. представлениями о психической реальности, какой она видится в аналитической ситуации, и тем способом, с помощью которого пациент проигрывает эту реальность и дает возможность аналитику пережить ее. Ибо, с учетом всего остального, изменения происходят только в меру способности аналитика понять и описать эти изменения. Это не обязательно значит, что мы должны отрицать изменения в пациенте, но эти изменения подчинены изменениям чувствительности и восприятия в самом аналитике. Так же, как представления пациента о внешней реальности зависят от его видения своей психической реальности, наша картина его психической реальности контролируется нашими представлениями о нашей собственной психической реальности.
Мне кажется, что аналитики начинают все больше и больше осознавать, какую роль они играют - как в своей оценке пациента во время первых консультаций, так и в аналитической ситуации и с развитием анализа. Материал пациента не является чем-то внешним для аналитика, поскольку уже благодаря реальности переноса аналитик становится неотъемлемой частью материала пациента. Аналитик оказывает влияние даже на то, каким образом пациент предъявляет свой материал (Balint, 1962; Viderman, 1970; Klauber, 1972; Giovacchini, 1973). Балинт (1962) сказал на конгрессе 1961 года: «Поскольку мы, аналитики, говорим на разных аналитических языках, наши пациенты по-разному говорят с нами - поэтому наши языки столь отличаются друг от друга». Между пациентом и аналитиком устанавливаются диалектические отношения. Поскольку аналитик стремится общаться с пациентом на его языке, пациент в свою очередь, если он хочет, чтобы его поняли, может отвечать только на языке аналитика. И аналитику, в его попытке общения, остается только показывать, как он разбирается, посредством своего субъективного переживания, в действии, оказываемом на него сообщением пациента. Он не может претендовать на абсолютную объективность своего слушания. Кто-нибудь вроде Винникотта (Winnicott, 1949) мог бы показать нам, как, находясь в конфронтации с трудным пациентом, он должен пройти через более или менее критический личный опыт, гомологичный или комплементарный по отношению к опыту пациента, чтобы получить доступ к ранее скрытому материалу. Все чаще мы видим, что аналитики исследуют свои реакции на сообщения пациентов, используя их в своих интерпретациях наряду с (или предпочтительно) анализом содержания сообщений, поскольку пациент нацелен скорее на результат своего сообщения, нежели на передачу содержания этого сообщения. Я думаю, что одно из основных противоречий, с которыми сталкивается сегодня аналитик - это необходимость (и сложность) согласования набора интерпретаций (проистекающих из работ Фрейда и представителей классического анализа) с клиническим опытом и теорией последних двадцати лет. Проблема осложняется тем, что последние не образуют однородной совокупности идей. Фундаментальные изменения в современном анализе проистекают из того, что аналитик слышит - и, возможно, не может не слышать - то, что до сих пор было недоступно слуху. Я не хочу этим сказать, что у нынешних аналитиков более тренированный слух, чем у прежних - к сожалению, часто можно обнаружить обратное; я имею в виду, что они слышат самые разнообразные вещи, которые раньше оставались за порогом слышимости.
Эта гипотеза охватывает куда более широкую сферу, чем те точки зрения, которые предлагают расширить понятие контрпереноса (P. Heimann, 1950; Racker, 1968) в его традиционном смысле. Я согласен с Neyraut (1974), что контрперенос не ограничивается положительными или отрицательными аффектами, вызываемыми переносом, а включает в себя во всем объеме психическое функционирование аналитика, на которое оказывает влияние не только материал пациента, но также то, что аналитик читает, и его дискуссии с коллегами. Можно даже говорить о раскачивании от переноса к контрпереносу - без этого раскачивания нельзя было бы проработать то, что сообщает нам пациент. Коль скоро это так, я не думаю, что я переступаю границы, обозначенные Винникоттом (1960b) для контрпереноса, который он сводил к профессиональным установкам. Кроме того, расширенные представления о контрпереносе не подразумевают расширенных представлений о переносе.
Такой взгляд на вещи кажется мне оправданным тем фактом, что трудные случаи, о которых я упоминал выше - это именно те случаи, которые одновременно проверяют аналитика и вызывают у него контрперенос в строгом смысле слова, а также требуют от него более серьезного личностного вклада. Придерживаясь такой точки зрения, я рад, что говорю только за себя. Ни один аналитик не может претендовать на то, чтобы создать детальную картину современного анализа во всей его полноте. Я надеюсь не оправдать на собственном примере замечания Балинта (1950) о том, что смешение языков происходит из-за аналитика, поскольку каждый аналитик придерживается своего собственного аналитического языка. При многообразии диалектов, порожденных базовым языком анализа (см. Laplanche & Pontalis, 1973), мы пытаемся быть полиглотами, но наши возможности ограничены.
Дискуссии по поводу показаний к анализу и опасностей, связанных с пригодностью к анализу
На протяжении более чем двадцати лет мы являемся свидетелями превратностей нескончаемых письменных и устных дебатов между теми аналитиками, которые хотят ограничить пределы классической психоаналитической техники (Eissler, 1953; Fenichel, 1941; A. Freud, 1954; Greenson, 1967; Lampl-de Groot, 1967; Loewenstein, 1958; Neyraut, 1974; Sandler et al. 1973; Zetzel, 1956), и теми, кто высказывается за расширение этой техники (Balint, Bion, Fairbairn, Giovacchini, Kernberg, Khan, M. Klein, Little, Milner, Modell, Rosenfeld, Searles, Segal, Stone, Winnicott). Первые возражают против введения искажающих параметров и даже оспаривают правомерность использования термина «перенос» по отношению ко всем терапевтическим реакциям, таким, как у пациентов, упомянутых в последнем разделе (см. обсуждение этой проблемы у Sandler et al. 1973); или, если они признают расширенную номенклатуру «переноса», то называют его «неподатливым» (Greenson, 1967). Вторая группа аналитиков утверждает, что необходимо сохранять базовую методологию психоанализа (отказ от активной манипуляции, сохранение нейтральности, хотя и с оттенком благосклонности, упор на разнообразно интерпретируемый перенос), но при этом приспосабливать ее к нуждам пациентов и открывать новые направления исследований.
Раскол между ними более иллюзорен, чем кажется. Мы больше не можем с уверенностью противопоставлять случаи, прочно укорененные в классическом анализе, случаям, когда аналитикам приходится пробираться через неизведанные топи. Ибо сегодня даже изведанные области могут таить в себе множество неожиданностей: обнаружение маскированного психотического ядра, неожиданные регрессии, затруднения с мобилизацией некоторых глубинных слоев и ригидные характерологические защиты. Следствием всех этих особенностей зачастую становится более или менее бесконечный анализ. Последняя работа Лиментани (1972) затрагивает больную тему: наши прогнозы шатки как в отношении наших пациентов, так и в отношении наших кандидатов. Клинический материал из анализа кандидатов представлен в работе так же часто, как и материал из анализа пациентов. «Пригодный для анализа не значит поддающийся анализу». Это усиливает скептицизм тех, кто считает, что оценка перед установлением аналитической ситуации является фикцией. Даже лучшие из нас попадают в ловушки. Определение объективных критериев, пригодность для анализа (Nacht & Lebovici, 1955) и прогноз, например, в пограничных случаях (см. Kernberg, 1971) интересны, но ценность их ограничена. Лиментани делает наблюдение, что, если суждение о пригодности к анализу выносит еще одно лицо, окончательное решение в значительной степени зависит от теоретических взглядов, склонностей и взаимодействия второго аналитика с пациентом. Похоже, трудно установить объективные и общие границы пригодности к анализу, благодаря которым можно было бы не принимать в расчет опыт аналитика, его особые качества или теоретическую направленность. Любые границы будут преодолены интересом, возникшим у пациента: возможно, это интерес «по уговору», но его подогревает желание отправиться в новое приключение. Более того, в работе сторонника ограничения сферы психоанализа часто можно увидеть материал случая, противоречащий принципам, провозглашаемым автором. Вместо того, чтобы рассуждать о том, что следует и чего не следует делать, было бы куда полезнее прояснить, что же мы на самом деле делаем. Потому что может случиться, как сказал Винникотт (1955), что у нас больше нет выбора. Лично я не считаю, что всех пациентов можно подвергнуть анализу, но я предпочитаю думать, что пациент, относительно которого у меня есть сомнения, не может проходить анализ у меня. Я сознаю, что наши результаты не соответствуют нашим амбициям и что неудачи более распространены, чем мы могли бы надеяться. Однако нас не может удовлетворить, как в медицине или психиатрии, объективное отношение к неудаче, когда положение может измениться благодаря терпению аналитика или в ходе дальнейшего анализа. Мы должны еще и спросить себя о ее субъективной значимости для пациента. Винникотт показал нам, что существует потребность повторять неудачи, пережитые во внешнем мире, и мы знаем, что пациент переживает триумф всемогущества независимо от того, стало ли ему лучше по окончании анализа или никаких изменений не произошло. Возможно, единственная неудача, за которую мы несем ответственность - это наша неспособность заставить пациента соприкоснуться со своей психической реальностью. Ограничения пригодности к анализу могут быть только ограничениями аналитика, alter ego пациента. В заключение мне бы хотелось сказать, что подлинная проблема, связанная с показаниями к анализу - это оценка аналитиком разрыва между его способностью понимания и материалом, предоставляемым данным пациентом, а также определение возможных последствий того, что он - через эту расщелину - может, в свою очередь, сообщить пациенту (того, что сможет мобилизовать психическое функционирование пациента в смысле проработки внутри аналитической ситуации). Для аналитика его заблуждения относительно собственных способностей обладают не менее серьезными последствиями, чем заблуждения относительно способностей пациента. Таким образом, в семье аналитиков место найдется всякому, независимо от того, посвятил ли он себя классическому анализу или расширению его пределов - или же занят (что случается чаще) и тем, и другим.
Ревизия модели невроза и имплицитная модель пограничных состояний
Остался ли в неприкосновенности невроз - сердце классического анализа? Можно попытаться ответить на это вопрос. Я не собираюсь выяснять причины, по которым невроз стал встречаться все реже - это много раз обсуждавшееся явление потребовало бы пространного исследования. Невроз, ранее обычно считавшийся сферой иррационального, теперь рассматривается в качестве последовательной триады, состоящей из инфантильного невроза, взрослого невроза и невроза переноса. При неврозе преобладает анализ переноса. Посредством анализа сопротивления узлы невроза развязываются практически сами собой. Анализ контрпереноса может быть ограничен осознанием тех элементов конфликта внутри аналитика, которые не благоприятствуют развитию переноса. В пределе роль аналитика как объекта анонимна: его место мог бы занять другой аналитик. Из всех элементов влечения легче всего заменить его объект; в теории и практике анализа роль объекта также остается неясной. Вытекающая отсюда метапсихология считает индивида способным к развитию без посторонней помощи - несомненно, при определенной помощи объекта, на который он полагается, но без растворения в объекте и без потери объекта.
Фрейдова имплицитная модель невроза основана на перверсии (невроз - негатив перверсии). Сегодня у нас могут возникать сомнения, действительно ли психоанализ все еще придерживается такого взгляда. Имплицитная модель невроза и перверсии в наши дни базируется на психозе. Эта эволюция в общих чертах обозначена в последней части работы Фрейда. В результате сегодняшние аналитики более чутко реагируют на скрывающийся за неврозом психоз, чем на перверсию. Это говорит не о том, что все неврозы «выгравированы» на лежащем в их основе психозе, а о том, что первертные фантазии невротиков интересуют нас меньше, чем психотические защитные механизмы, которые мы обнаруживаем здесь в слабой форме. На самом деле от нас требуется прислушиваться к двойному коду. Поэтому я и говорил выше о том, что сегодня мы слышим совсем другие вещи - те, что раньше были недоступны слуху. И именно по этой причине некоторые аналитики (Bouvet, 1960) пишут, что анализ невроза нельзя считать завершенным, пока мы не достигли, пусть и поверхностно, психотического уровня. Сегодня наличие психотического ядра внутри невроза (при условии, что оно кажется доступным) пугает аналитика меньше, чем навязчивые и ригидные защиты. Это заставляет нас пристрастно исследовать аутентичность таких пациентов, даже если они чистой воды невротики и обладают видимой подвижностью и изменчивостью. Когда мы в конце концов достигаем психотического ядра, мы обнаруживаем то, что можно назвать «частным безумием» пациента; и это может быть одной из причин, по которым интерес аналитиков в настоящее время смещается в сторону пограничных состояний.
С этого момента я буду использовать термин «пограничные состояния» не для обозначения особых клинических феноменов по контрасту с остальными феноменами (напр., ложная самость, проблемы идентичности или базисная вина), а как общее клиническое понятие, которое можно подразделить на множество аспектов. Вероятно, лучше было бы назвать их «пограничными состояниями пригодности к анализу». Возможно, в современной клинической практике пограничные состояния играют ту же роль, какую играл «актуальный невроз» в теории Фрейда, с той разницей, что пограничные состояния - это долговечные организации, способные по-разному развиваться. Мы знаем, что такой клинической картине не хватает структуры и организации - не только в сравнении с неврозами, но и в сравнении с психозами. В отличие от неврозов, здесь можно наблюдать отсутствие младенческого невроза, полиморфный характер так называемого взрослого «невроза» и расплывчатость невроза переноса.
Современный анализ балансирует между двумя крайностями. На одном полюсе лежит социальная «нормальность», которой МакДугалл (1972) дала впечатляющее клиническое описание, введя понятие «антианализант». Она описывает провал попытки начать аналитический процесс, хотя и была создана аналитическая ситуация. Перенос оказывается мертворожденным, несмотря на все усилия аналитика помочь «при родах» или даже спровоцировать его появление на свет. Аналитик чувствует себя пойманным в сеть из мумифицированных объектов пациента, парализованным в своих действиях и неспособным пробудить в пациенте какое бы то ни было любопытство по поводу его самого. Аналитик находится в ситуации «исключения объекта». Его попытки интерпретировать воспринимаются пациентом как безумие, что вскоре приводит к тому, что аналитик декатектирует своего пациента и впадает в состояние инерции, для которой характерны эхо-реакции. На другом полюсе находятся состояния, объединенные стремлением к регрессии, слиянию и зависимости от объекта. Существует множество разновидностей такой регрессии, от блаженства до ужаса, от всемогущества до полной беспомощности. Их интенсивность варьируется от открытых проявлений до слабых признаков наличия такого состояния. Его можно обнаружить, например, в крайне свободном ассоциировании, расплывчатости мышления, несвоевременных соматических проявлениях на кушетке, как если бы пациент пытался общаться при помощи языка тела; или еще проще: когда аналитическая атмосфера становится тяжелой и гнетущей. Здесь очень важны присутствие (Nacht, 1963) и помощь объекта. От аналитика в этом случае требуется не только его способность к аффектам и эмпатии. Здесь необходимы его ментальные функции, поскольку структуры смысла у пациента бездействуют. Именно здесь контреперенос обретает наиболее широкое значение. Техника анализа неврозов дедуктивна, техника анализа пограничных состояний - индуктивна, отсюда весь связанный с ней риск. Работы авторов, которые пишут о пограничных состояниях - неважно, насколько по-разному они их описывают, какие выдвигают причины и какие техники используют- построены на трех фактах: 1) Переживание первичного слияния свидетельствует о неразличении субъекта и объекта, когда границы «я» становятся размытыми. 2) Из дуальной организации «пациент-аналитик» вытекает особый способ символизации. 3) Наличествует потребность в структуральной интеграции через объект.
Между этими двумя крайностями («нормальность» и регрессия к слиянию) существует множество защитных механизмов против регрессии. Я распределю их по четырем основным категориям. Первые две - это механизмы психотического короткого замыкания, а последние две - базовые психические механизмы.
Соматическое исключение. Соматические защиты полярно противоположны конверсии. Регрессия выводит конфликт из психической сферы, привязывая его к сома - телу (а не к либидинозному телу), разделяя психе и сома, психику и тело. Это приводит к асимволическому образованию, посредством трансформации либидинозной энергии в нейтрализованную (я вкладываю в этот термин иное значение, в отличие от Хартманна), т.е. чисто соматическую энергию, что иногда ставит жизнь пациента под угрозу. Я сошлюсь здесь на работы Marty, de M»Uzan & David (1963) и M. Fain (1966). Эго защищается от возможной дезинтеграции из-за воображаемого столкновения, которое может разрушить как само эго, так и объект, с помощью исключения, напоминающего отреагирование, но направленного теперь на нелибидинозное телесное эго.
Выталкивание через действие. Отреагирование, «действие вовне», является внешним аналогом психосоматическому «действию внутрь». Оно также помогает избавиться от психической реальности. Содержащиеся в действии функция преобразования реальности и функция общения затмеваются его (действия) экспульсивной целью. Важно отметить, что этот акт совершается в предвкушении такого типа отношений, в которых эго и объект поочередно поглощаются.
Примечательным следствием действия этих двух механизмов является психическая слепота. Пациент ослепляет себя, делается невосприимчивым к своей психической реальности - как к соматическим источникам своего влечения, так и к точке входа этого влечения во внешнюю реальность - избегая промежуточного процесса проработки, уточнения. В обоих случаях у аналитика возникает впечатление, что он находится вне контакта с психической реальностью пациента. Ему приходится создавать воображаемую конструкцию этой реальности, ориентируясь на соматические проявления или на взаимосвязь социальных действий, которые настолько сверхкатектированы, что затмевают внутренний мир.
Расщепление. Механизм так называемого расщепления пребывает в психической сфере. Все остальные защиты, описанные кляйнианскими авторами (из них общепринятыми стали такие, как проективная и интроективная идентификация, отрицание, идеализация, всемогущество, маниакальная защита и т.д.), вторичны по отношению к ней. Проявления расщепления весьма разнообразны - от оберегания секретной неконтактной зоны, где пациент совершенно один (Fairbairn, 1940; Balint, 1968) и где его истинное «я» находится в безопасности (Winnicott, 1960a, 1963a), или где скрывается часть его бисексуальности (Winnicott, 1971), до атак на связный процесс мышления (Bion, 1957, 1959, 1970; Donnet & Green, 1973), проекции плохой части своего «я» и объекта (M. Klein, 1946) и существенного отрицания реальности. Когда идут в ход эти механизмы, аналитик находится в контакте с психической реальностью, но он либо ощущает, что отрезан от недоступной части этой реальности, либо видит, что его вмешательства разваливаются на глазах и что его воспринимают как преследующего и вторгающегося.
Декатексис. Здесь я буду рассматривать первичную депрессию, почти в физическом смысле слова, созданную радикальным декатексисом со стороны пациента, который хочет достичь состояния пустоты и стремится к небытию и ничто. Дело здесь в механизме, который, на мой взгляд, находится на одном уровне с расщеплением, но отличается от вторичной депрессии, целью которой, по кляйнианским авторам, является репарация. Аналитик чувствует себя отождествляемым с пространством, лишенным объектов, или же обнаруживает, что находится вне этого пространства.
Наличие этих двух последних механизмов предполагает, что фундаментальная дилемма пациента, скрывающаяся за всеми защитными маневрами, может быть сформулирована следующим образом: бред или смерть.
Имплицитная модель невроза в прошлом вернула нас к тревоге кастрации. Имплицитная модель пограничных состояний возвращает нас к противоречию, создавшемуся из-за двойственности: тревога сепарации/тревога вторжения. Отсюда вся важность понятия дистанции (Bouvet, 1956, 1958). Результат этой двойной тревоги, которая иногда становится мучительной, имеет отношение, как мне кажется, не к проблеме желания (как при неврозе), а к формированию мышления (Bion, 1957). В сотрудничестве с Донне (Donnet & Green) я описал то, что мы назвали чистым психозом (psychose blanche), т.е. то, что, как мы считаем, является фундаментальным психотическим ядром. Его характеристики: блокирование процессов мышления, торможение функций репрезентации и «би-триангуляция», где разделяющее два объекта различие между полами маскирует расщепление одного объекта, хорошего или плохого. Таким образом, пациенту причиняет страдания как преследующий вторгающийся объект, так и депрессия по поводу потери объекта.
Наличия базисных механизмов по линии психоза и их производных недостаточно для характеристики пограничных состояний. В действительности, анализ показывает нам, что эти механизмы и их производные наслаиваются на защитные механизмы, описанные Анной Фрейд (1936). Многие авторы, используя различную терминологию, указывают на сосуществование психотической и невротической частей личности (Bion, 1957; Gressot, 1960; Bergeret, 1970; Kernberg, 1972; Little & Flarsheim, 1972). Сосуществование этих частей может определяться тем неразрешимым тупиком, в который зашли отношения между принципом реальности и сексуальным либидо, с одной стороны, и принципом удовольствия и агрессивного либидо, с другой. Все, что для «я» связано с получением удовольствия, и любая реакция «я» на реальность - все это пропитывается агрессивными компонентами. И наоборот: поскольку разрушение сопровождается своего рода объектным рекатексисом, либидинозным в самой примитивной форме, два аспекта либидо (сексуальный и агрессивный) в этом случае не слишком хорошо различаются. Такие пациенты демонстрируют сверхчувствительность к утрате; но они также в состоянии восстановить объект с помощью хрупкого и опасного замещающего объекта (Green, 1973). Эта установка проявляется в психическом функционировании через смену процессов связывания и разъединения. В результате постоянно переоцениваются или недооцениваются функция аналитика как объекта, а также степень развития аналитического процесса.
Теперь я постараюсь более подробно разобрать наши наблюдения по поводу чистого психоза. Объектные отношения, которые демонстрирует нам пациент, в этом психотическом ядре без видимого психоза являются не диадными, а триадными, т.е. в эдипальной структуре присутствует как мать, так и отец. Однако глубинное различие между этими объектами состоит ни в различии полов или функций. Дифференциация проводится по двум критериям: хороший и плохой объект, с одной стороны; ничто (или утрата) и доминирующее присутствие, с другой. С одной стороны, хороший объект недоступен, как если бы он был вне пределов досягаемости, или же никогда не присутствует достаточно долго. С другой, плохой объект все время вторгается и никогда не исчезает, разве что только на очень короткое время. Таким образом, мы имеем дело с треугольником, основанном на отношениях между пациентом и двумя симметрично противоположными объектами, которые в действительности являются единым целым. Отсюда термин «би-триангуляция». Обычно мы описываем такого рода отношения только в терминах отношений любви-ненависти. Это не годится. Необходимо учитывать значение этих отношений для процессов мышления. В действительности вторгающееся присутствие пробуждает бредовое ощущение влияния и недоступности для депрессии. В обоих случаях это сказывается на мышлении. Почему? Потому что в обоих случаях невозможно установить (конституировать) отсутствие. Всегда навязчиво присутствующий объект, постоянно занимающий личное психическое пространство, мобилизует постоянный декатексис, чтобы сопротивляться этому прорыву; это истощает ресурсы эго или побуждает его избавляться от своего бремени с помощью выталкивающей (экспульсивной) проекции. Никогда не отсутствуя, этот объект не может быть помыслен. И наоборот: недоступный объект невозможно ввести в личное пространство (по крайней мере, на достаточно долгий срок). Таким образом, основой для него не может стать модель воображаемого или метафорического присутствия. Даже если это было бы возможно на какое-то мгновение, плохой объект устранил бы воображаемое присутствие. А если бы плохой объект уступил, то психическое пространство, которое лишь на мгновение может быть занято хорошим объектом, оказалось бы совершенно безобъектным. Этот конфликт приводит к божественной идеализации, которая воображает недоступный хороший объект (негодование и обида по поводу его недоступности активно отрицается), и к представлениям о дьявольском преследовании со стороны плохого объекта (привязанность, подразумеваемая такой ситуацией, точно так же отрицается). Результат такой ситуации в случаях, о которых идет речь - не явный психоз, при котором механизмы проекции работают в широкой области, и не открытая депрессия, при которой может иметь место работа горя. Конечный результат - паралич мышления, выражающийся в негативной гипохондрии, особенно в области головы, т.е. ощущение пустоты в голове или дырки в умственной деятельности, неспособность сконцентрироваться, запоминать и т.п. Борьба с подобными ощущениями может запустить искусственный процесс мышления: умственная жвачка, род псевдообсессивно-компульсивного мышления, квазибредовая бессвязная речь и т.д. (Segal, 1972). Возникает искушение счесть все это результатом вытеснения. Но это не так. Когда невротик жалуется на подобные явления, у нас есть хороший повод решить, если позволяет контекст, что он сражается с репрезентациями желаний, подвергшихся цензуре суперэго. Когда мы имеем дело с психотиком, это мы предполагаем наличие скрытых фантазий, лежащих в основе всего. На мой взгляд, эти фантазии расположены не «за» пустым пространством, как у невротиков, а «после» него, т.е. это форма рекатексиса. Я имею в виду, что плохо проработанные примитивные влечения снова стремятся прорваться в пустое пространство. На позицию аналитика перед лицом этих феноменов воздействует структура пациента. Аналитик отреагирует на пустое пространство интенсивным усилием мысли, чтобы попытаться помыслить то, что не может помыслить пациент, и что найдет свое выражение в попытке со стороны аналитика достичь воображаемой репрезентации, чтобы не поддаться психической смерти. И, наоборот, столкнувшись с вторичной проекцией безумия, он может почувствовать растерянность, даже изумление. Пустое пространство должно наполниться, а избыток - схлынуть, уйти. Здесь трудно найти равновесие. Преждевременное наполнение пустоты с помощью интерпретации равносильно повторному вторжению плохого объекта. С другой стороны, если оставить пустоту как она есть, это будет равнозначно недоступности хорошего объекта. Если аналитик испытывает растерянность или изумление, он уже не находится в позиции, позволяющей сдерживать, контейнировать затопление, которое начинает безгранично расширяться. И, наконец, если аналитик реагирует на этот поток вербальной сверхактивностью, то, даже при самых благих намерениях, его реакция превращается в интерпретативное возмездие. Единственное решение - дать пациенту образ проработки, поместив то, что он нам дает, в пространство, не являющееся ни пустым, ни затопленным: проветриваемое пространство - не пространство «это ничего не значит» или «это значит, что...», а пространство «это может значить, что...». Это пространство потенциального, пространство отсутствия, поскольку (первым это заметил Фрейд) именно в отсутствие объекта создается его репрезентация, источник мышления. И я должен добавить, что язык накладывает здесь на нас ограничения, поскольку «стремление к значению» связано не просто с использованием слов, обладающих содержанием: оно указывает на то, что пациент ищет, как ему передать сообщение в самой элементарной форме; это направленная на объект надежда, где цель совершенно неопределенная. Это, вероятно, оправдывает рекомендацию Биона (1970): аналитику следует попытаться достичь состояния, лишенного воспоминаний и желаний, несомненно, для того, чтобы состояние пациента проникло в нас как можно полнее. Цель, к которой нужно стремиться - работа с пациентом должна осуществляться по двум направлениям: создавать контейнер для содержания пациента и содержание для его контейнера, тем не менее, всегда держа в уме (по крайней мере, в уме аналитика) гибкость границ и поливалентность смыслов.
Поскольку анализ был рожден из опыта невроза, он взял за точку отсчета представление (мысль) о желании. Сегодня мы можем утверждать, что желания есть только потому, что есть мысли; мы используем этот термин в широком смысле (включая самые примитивные формы). Сомнительно, чтобы внимание, уделяемое сегодня мыслям и мышлению, проистекало из интеллектуализации. Ибо своеобразие психоаналитической теории, начиная с первых работ Фрейда, заключается в соединении мыслей и влечений. Можно даже пойти дальше и заявить, что влечение - зачаточная форма мышления. Между влечением и мышлением располагается целая серия разнообразных промежуточных цепочек, своеобразно концептуализированных Бионом. Но недостаточно будет просто представить себе иерархию этих цепочек. Влечения, аффекты, предметные и словесные репрезентации сообщаются друг с другом; одна структура подвергается влиянию другой. Точно так же формируется бессознательное. Но психическое пространство сдерживается границами. Напряжение внутри этих границ остается переносимым, и удовлетворение самых иррациональных желаний - заслуга психического аппарата. Видеть сон в то время, как исполняется желание - достижение психического аппарата, не только потому, что сон исполняет желание, но и потому, что сновидение само по себе есть исполнение желания видеть сон. Аналитическую сессию часто сравнивают со сновидением. Если это сравнение и оправдано, то только потому, что, подобно тому, как сон содержится внутри неких пределов (упразднение противоположных полюсов восприятия и моторной деятельности), сессия сдерживается условиями аналитических формальностей. Именно это сдерживание способствует осуществлению специфического функционирования различных элементов психической реальности. Но все это верно в применении к классическому анализу неврозов и подлежит пересмотру в трудных случаях.
Текущие проблемы, возникающие благодаря параллельному развитию теории и практики
Психическое функционирование и аналитический сеттинг
В параллельном развитии психоаналитической теории и практики можно выделить три тенденции. Из-за нехватки места я вынужден дать лишь общий набросок; как все наброски, он отличается весьма приблизительной точностью, поскольку реальность, будучи гораздо более сложной, пренебрегает произвольными ограничениями и различные потоки вливаются один в другой.
Первая тенденция: аналитическая теория была привязана к исторической реальности пациента. Она вскрывала конфликт, бессознательное, фиксации и т.д. Она развивалась в направлении изучения эго и механизмов защиты (Anna Freud, 1936), ее расширяли психоаналитические исследования психологии эго (Hartmann, 1951). На практике она обнаруживает себя в исследовании переноса (Lagache, 1952) и сопротивления; при этом применяются эмпирически установленные психоаналитические правила и не вводятся технические новшества.
Вторая тенденция: интерес сместился в сторону объектных отношений, очень по-разному понимаемых (напр., Balint, 1950; Melanie Klein, 1940, 1946; Fairbairn, 1952; Bouvet, 1956; Modell, 1969; Spitz, 1956, 1958; Jacobson, 1964). В параллельном движении идея невроза переноса постепенно замещалась понятием психоаналитического процесса. Этот процесс рассматривался как форма организации, в течение анализа, внутреннего развития психических процессов пациента, или как обмен между пациентом и аналитиком (Bouvet, 1954; Meltzer, 1967; Sauget, 1969; Diatkine & Simon, 1972; Sandler et al., 1973).
Третья тенденция: здесь можно отметить сосредоточенность на психическом функционировании пациента (Бион и парижская психосоматическая школа), а в клинической практике ставятся вопросы о функции аналитического сеттинга (Winnicott, 1955; Little, 1958; Milner, 1968; Khan, 1962, 1969; Stone, 1961; Lewin, 1954; Bleger, 1967; Donnet, 1973; Giovacchini, 1972a). Эти вопросы относятся к тому, является ли сеттинг (система) предварительным условием, определяющим аналитический объект и изменение (цель специфического применения аналитического сеттинга). Это проблема как эпистемологическая, так и практическая.
Для ясности мы можем сказать, что аналитическая ситуация - это совокупность элементов, образующих аналитические отношения: в самом сердце этих отношений мы с течением времени можем наблюдать процесс, узлы которого завязываются с помощью переноса и контрпереноса благодаря установлению аналитического сеттинга и накладываемым им ограничениям. (Это определение дополняет определение Bleger, 1967).
Будем говорить конкретнее. В классическом анализе пациент, пережив удивление в начале, кончает тем, что усваивает все те элементы ситуации, которые позволяют анализу продвигаться дальше (регулярные встречи, фиксированная длина сессий, позиция на кушетке и в кресле, ограничение общения вербальным уровнем, свободные ассоциации, окончание сессии, регулярные перерывы, значение оплаты и т.д.). Поглощенный тем странным, что происходит внутри него, он забывает о сеттинге и вскоре позволяет развиться переносу с тем, чтобы приписать это странное объекту. Элементы сеттинга дают материал для интерпретации только тогда, когда есть окказиональные изменения. Как заметил Bleger (1967) и другие, сетинг создает безмолвную, немую основу, константу, которая дает изменчивому процессу возможность разгуляться. Это не-я (Milner, 1952), которое обнаруживает свое существование только в отсутствии. Это можно было бы сравнить с безмолвным здоровьем тела, если бы Винникотт не предложил сравнение еще лучше - заботливая среда.
Наш опыт обогатился благодаря анализу пациентов, которые не могут использовать сеттинг как заботливую среду. Они не просто не сумели воспользоваться им: как будто бы где-то внутри себя они оставили его нетронутым в не-пользовании им (Donnet, 1973). Таким образом, от анализа содержимого мы переходим к анализу контейнера, анализу самого сеттинга. Можно найти аналоги на других уровнях. Под «холдингом» Винникотта подразумевается забота внешнего объекта, под «контейнером» Биона - внутренняя психическая реальность. Но для исследования объектных отношений, даже если считать анализ «биперсональной психологией», этого недостаточно. Мы должны еще и исследовать пространство, в котором развиваются это отношения, его границы и его разрывы, а также изучить развитие этих отношений во времени, непрерывность и прерывания во времени.
Можно установить две ситуации. О первой уже шла речь выше: в ней безмолвный сеттинг подвергается забвению, как если бы он отсутствовал. Именно на этом уровне анализ происходит между людьми: это позволяет нам проникнуть в их субструктуры и интрапсихические конфликты между процессами (Rangell, 1969) и даже дает возможность анализировать частичные объектные отношения, содержащиеся в функциональном целом, в той мере, в какой атмосфера сессии остается подвижной, а процессы - относительно ясными. Интерпретация может себе позволить роскошь утонченности. Взаимодействие людей отодвигает отношения с сеттингом на задний план.
Вторая ситуация - та, в которой присутствие сеттинга становится ощутимым. Возникает ощущение, что происходит нечто, противодействующее сеттингу. Такое ощущение может возникнуть у пациента, но прежде всего оно присутствует у аналитика. Аналитик ощущает действие напряжения, внутреннего давления: это заставляет его осознать необходимость действовать посредством и внутри аналитического сеттинга, словно для того, чтобы защитить его от угрозы. Это напряжение вынуждает его войти в мир, который он видит лишь мельком и который требует от него усилий воображения. Это тот случай, когда анализ развивается не между людьми, а между объектами, как если бы люди утратили свою реальность и уступили место неопределенному полю объектов. Некоторые репрезентации могут благодаря своей живости внезапно обрести очертания, вынырнув из тумана, но в пределах воображения. Часто случается, что у аналитика даже еще более неопределенные впечатления, не облекающиеся ни в образы, ни в воспоминания, связанные с ранними фазами анализа. Эти впечатления, похоже, воспроизводят некоторые траектории влечений через внутреннее движение в аналитике и пробуждают ощущения завертывания и развертывания. На стадии этих движений происходит интенсивная работа, с помощью которой эти движения в конце концов передаются в сознание аналитика перед тем, как ему превратить их с помощью внутренних преобразований в последовательность слов, которые будут в нужный момент использованы для передачи сообщения пациенту вербальными средствами. Когда аналитик достигает своего рода внутренней упорядоченности, часто до вербализации, аффективный разброд превращается в чувство удовлетворения от того, что удалось прийти к связному объяснению, играющему роль теоретической конструкции (в том смысле, в каком Фрейд использовал это выражение в своем описании инфантильных сексуальных теорий). В этот момент неважно, правильная это теория или ложная - всегда будет время скорректировать ее позже в свете дальнейшего опыта. Значение имеет лишь тот факт, что удалось закрепить зародыш и придать ему форму. Все происходит так, как если бы именно аналитику удалось достичь состояния, аналогичного галлюцинаторной репрезентации желания, как у ребенка или невротика. Часто говорят об ощущении всемогущества, которым сопровождается реализация галлюцинаторного желания. Но это ощущение возникает раньше. Оно связано с успешным преобразованием - закреплением зачатка в обладающей значением форме: она может быть использована как модель для дешифровки будущей ситуации. Однако аналитик должен посвятить себя задаче проработки, поскольку сам пациент способен лишь в минимальной степени приблизиться к структуре; этой структуре не хватает связанности, чтобы обладать смыслом, но она вполне связна для того, чтобы мобилизовать все мыслительные паттерны аналитика - от самых элементарных до самых сложных, и повлиять, хотя бы ориентировочно, на символизацию, которая все время начинается и никогда не заканчивается.
Приведенное мною описание можно применить либо к некоторым критическим моментам в классическом анализе (по достижении глубинных слоев), либо в более широком смысле к общей атмосфере анализа трудных случаев, по контрасту со случаями классического анализа. Но необходимо помнить, что такая работа возможна только в условиях аналитического сеттинга и гарантий, предоставляемых его постоянством и неизменностью, транслирующими важность присутствия аналитика как человека. Это необходимо для того, чтобы сохранять изолированность аналитической ситуации, невозможность разрядки, близкий контакт, ограниченный сферой психического, и уверенность в том, что безумные мысли не выйдут за стены комнаты для консультаций. Это гарантия того, что язык - транспортное средство мыслей - останется метафорическим; что сессия завершится; что за ней последует другая сессия и что ее веская истинность, более истинная, чем реальность, рассеется, как только за пациентом закроется дверь. Таким образом, вместо того, чтобы говорить, что установление сеттинга воспроизводит объектные отношения, я считаю более уместным сказать, что установление сеттинга позволяет объектным отношениям появиться на свет и развиться. Я сделал центром своего описания ментальное функционирование, а не выражение влечений и защит, лежащих в основе этого функционирования, поскольку о влечениях и защитах уже многое было сказано, в то время как ментальное функционирование все еще остается обширной неизведанной территорией внутри аналитического сеттинга.
Когда теория объектных отношений была в самом начале своего развития, мы сначала стали описывать взаимодействие «я» и объекта в терминах внутренних процессов. Никто не обратил внимания на то, что во фразе «объектные отношения» слово «отношения» было более значимым. Нашему интересу следовало сосредоточиться на том, что лежит между этими связанными с действиями понятиями или между результатами различных действий. Другими словами, исследование отношений - это скорее исследование связей, звеньев, соединяющих эти понятия, а не исследование самих понятий. Именно природа связи, придающей материалу истинно психический характер, отвечает за интеллектуальное развитие. Эта работа откладывалась до тех пор, пока Бион не исследовал связи между внутренними процессами, а Винникотт не изучил взаимодействие внутреннего и внешнего.
Рассмотрим вначале последний случай. Мы узнаем о том, что происходит внутри пациента, только посредством того, что он нам рассказывает. Нам не хватает знания об источнике сообщения и о том, что разворачивается внутри этих двух пределов. Но мы можем преодолеть свое неведение относительно внутреннего пространства, наблюдая за тем действием, которое сообщение оказывает на нас, и за тем, что возникает между нашими аффективными (точнее даже телесными) впечатлениями и нашим ментальным функционированием. Конечно, нельзя утверждать, что именно это и происходит внутри у пациента: мы можем лишь сказать, гомологично или аналогично то, что происходит с нами, тому, что происходит с пациентом. И мы перемещаем знание о том, что происходит в нашем собственном внутреннем пространстве, в пространство между нами и пациентом. Сообщение пациента - отличное от того, чем он живет и что чувствует - располагается в переходном пространстве между ним и нами точно так же, как и наша интерпретация, которую влечет за собой сообщение. Благодаря Винникотту мы знаем о функции переходного пространства - потенциального пространства, которое соединяет и разделяет мать и ребенка, создавая новую категорию объектов. Язык, на мой взгляд - наследник первых переходных объектов.
Я упомянул выше о работе символизации и сейчас хотел бы объяснить, почему внутренние процессы аналитика своей целью имеют создание символизации. Понятие символа я использую здесь в том смысле, который выходит за рамки значения, придаваемого этому понятию в психоанализе, но очень тесно соотносится с первоначальным определением. Символ - это «разломленный на две части предмет: условный знак, с помощью которого узнавали друг друга владельцы половинок, соединив их вместе» (Dictionnaire Robert). Разве не это происходит в аналитическом сеттинге? Ничто в этом определении не подразумевает того, что половинки должны быть одинаковыми. Таким образом, даже если работа анализа заставляет аналитика предпринимать значительные усилия, чтобы создать в уме картину психического функционирования пациента, он восполняет то, чего не хватает пациенту. Я сказал, что он замещает недостающую часть, чтобы понять отношения между источниками сообщения и его образованием, наблюдая гомологичные процессы в себе самом. Но в конце концов реальный аналитический объект не находится ни на стороне пациента, ни на стороне аналитика: он там, где встречаются два сообщения в потенциальном пространстве, лежащем между ними, ограниченном рамками сеттинга, который прерывается при каждой сепарации и восстанавливается при каждой новой встрече. Если мы предположим, что каждый из участников, пациент и аналитик, представляет собой союз двух частей (то, чем они живут, и то, что они сообщают), одна из которых является дублем другой (я использую слово «дубль» в смысле широких гомологических связей и допускаю при этом существование различий), то сможем увидеть, что аналитический объект состоит из двух дублей - один дубль пациента, а другой аналитика. Нужно просто слушать пациентов, чтобы понять, что они постоянно это подразумевают. Существенным условием формирования аналитического объекта будет установление гомологичных и комплементарных отношений между пациентом и аналитиком. Формулировки наших интерпретаций определяются не тем, как мы оцениваем то, что понимаем или чувствуем. Сформулированная или отвергнутая, интерпретация всегда основывается на дистанции между тем, что аналитик хочет сообщить, и тем, что пациент в состоянии усвоить, чтобы создать аналитический объект (я называю это полезной дистанцией и действенным различием). С этой точки зрения аналитик не только раскрывает скрытое значение. Он конструирует значение, которое никогда не создавалось до того, как начались аналитические отношения (Viderman, 1970). Я бы сказал, что аналитик создает отсутствующее значение (Green, 1974). Надежда в анализе опирается на понятие потенциального смысла (Khan, 1974b), который позволит присутствующему и отсутствующему смыслам встретиться в аналитическом объекте. Но эта конструкция никогда не бывает свободной. Если она не может претендовать на объективность, она может претендовать на гомологичную связь с тем, что ускользнуло от нашего понимания в настоящем или прошлом. Она является своим собственным дублем.
Эта концепция, вводящая понятие дублей (Green, 1970), поможет нам выпутаться из «разговора глухих» между теми, кто считает, что регрессия при лечении в своих крайних формах является воспроизведением начального младенческого состояния и что интерпретация - это квазиобъективное воспроизведение прошлого (нацелена ли она на события или на внутренние процессы), и теми, кто скептически относятся к возможности достижения подобных состояний или возможности объективных реконструкций. В действительности регрессия при лечении всегда метафорична. Это миниатюрная модифицированная модель младенческого состояния, но она связана с этим состоянием отношениями подобия - так же, как и интерпретация, проясняющая его смысл, но оставшаяся бы неэффективной, если бы не существовало отношений соответствия. Мне кажется, что основная функция всех этих неоднократно порицавшихся вариантов классического анализа заключалась только в том, чтобы, экспериментируя с аналитическим сеттингом и делая его более гибким, искать и сохранять минимальные условия символизации. В каждой работе о символизации в психотических или препсихотических структурах говорится одно и то же, но в разных терминах. Пациент уравнивает, но не создает символов (символическое уравнение - H. Segal, 1967). Он создает представление о другом по образу самого себя (проективное удвоение - Marty et al., 1963). Это также напоминает кохутовское описание (1971) зеркального переноса. Аналитик не репрезентирует для пациента его мать, он и есть его мать (Winnicott, 1955). Отсутствует понятие «как если бы» (Little, 1958). Можно также вспомнить понятие «прямого отреагирования» (de M»Uzan, 1968). Из этого можно сделать вывод, что все дело во врожденной схеме дуальных отношений. С другой стороны, мы не должны забывать об акценте, который ставится на недостаточную дифференциацию между собственным «я» и объектом, на размывание границ вплоть до нарциссического слияния. Парадокс в том, что такая ситуация лишь изредка приводит к абсолютно хаотическому и дезорганизованному состоянию и что фигуры дуальной схемы очень быстро возникают из недифференцированного целого. К дуальным отношениям обмена с объектом можно добавить то, что я называю дуальными отношениями внутри самого «я» - механизмы двойной реверсии (поворот против себя, реверсия), которые, как говорил Фрейд, присутствовали до вытеснения (Green, 1967b). Таким образом, с идеей зеркала в обмене с репрезентантом внешнего объекта может сочетаться идея внутреннего отзеркаливания собственного «я». Все это показывает, что способность к отражению - фундаментальное свойство человека. Так можно объяснить потребность в объекте как в образе «подобного» (см. статью Винникотта об «отзеркаливающей роли матери», 1967). По большей части символические структуры, по-видимому, врожденные. Однако исследования в области общения животных, а также психологические или психоаналитические исследования показывают, что эти структуры требуют вмешательства объекта, чтобы продвинуться от потенциального к реальному в данный момент времени.
Не оспаривая истинности клинических описаний, мы должны теперь рассмотреть дуальность в ее контексте. Даже совершенно дезорганизованная вербализация создает дистанцию между «я» и объектом. Но мы можем уже предположить, что с момента возникновения того, что Винникотт называет субъективным объектом, очерчивается очень примитивная триангуляция между «я» и объектом. Если мы обратимся к объекту, т.е. матери, мы должны допустить, что также присутствует и третье лицо. Когда Винникотт говорит нам, что «нет такой вещи, как младенец», имея в виду пару, состоящую из младенца и материнской заботы, я испытываю искушение сказать, что нет такой пары, как «мать и младенец» без отца. Ребенок - знак союза между матерью и отцом. Вся проблема проистекает из того факта, что, даже в самых смелых воображаемых конструкциях, мы через соприкосновение с реальностью стремимся понять, что происходит в сознании пациента, когда он один (т.е. со своей матерью), не думая о том, что происходит между ними. А между ними мы обнаруживаем отца, который всегда присутствует где-то в бессознательном матери (Lacan, 1966), даже если его ненавидят или он изгнан. Да, отец отсутствует в этих отношениях. Но сказать, что он отсутствует, значит сказать, что он не является ни присутствующим, ни несуществующим - т.е. что он обладает потенциальным присутствием. Отсутствие - это промежуточное положение между присутствием (вплоть до вторжения) и потерей (вплоть до аннигиляции). Аналитики все больше склоняются к той мысли, что, когда они вербализуют переживание через сообщение, они не просто проясняют сообщение, но вновь вводят в этот момент потенциальное присутствие отца - не через явную отсылку к нему, а посредством введения третьего элемента в коммуникативную дуальность.
Когда мы используем метафору зеркала (первым ее использовал Фрейд) - я допускаю, что это может быть искажающее зеркало - мы всегда забываем о том, что образование пары «образ-объект» зависит от наличия третьего объекта, т.е. самого зеркала. Сходным образом, когда мы говорим о дуальных отношениях в анализе, мы забываем о третьем элементе, представленном сеттингом, его гомологом. Говорят, что сеттинг репрезентирует холдинг и материнскую заботу. Но сама «работа зеркала», столь очевидная при анализе трудных случаев, оказывается в небрежении. Можно было бы сказать, что физическую деятельность материнской заботы способен заместить - метафорически - только психический двойник этой деятельности, которая сводится сеттингом к молчанию. Только таким образом ситуация может развиваться в направлении символизации. Психическое функционирование аналитика сравнимо с фантазийной деятельностью материнской задумчивости (Bion, 1962), которая вне всяких сомнений является неотъемлемой частью холдинга и материнской заботы. Сталкиваясь с диффузной разрядкой пациента, расширяющего и захватывающего пространство, аналитик реагирует, используя способность к эмпатии, с помощью механизма проработки, которая предполагает торможение цели влечения. Уменьшение торможения цели у пациента препятствует удерживанию опыта в памяти; это удерживание необходимо для образования следов в памяти, от которых зависит деятельность запоминания. Это тем более так, потому что разрядка пропитана деструктивными элементами, противостоящими созданию связей; их атаки направлены на мыслительные процессы. Все происходит так, как будто бы это аналитик двигался к регистрации опыта, которого могло бы не быть. Из этого вытекает идея, что эти пациенты обнаруживают, что они более плотно захвачены текущими конфликтами (Giovacchini, 1973). Реакция контрпереноса - та, что могла бы быть у объекта.
Влечения стремятся к удовлетворению с помощью объекта, но там, где это невозможно из-за создаваемого сеттингом торможения цели, остается путь проработки и вербализации. Почему же у пациента возникает эта нехватка уточнения, проработки, почему ее должен вносить аналитик? При нормальном психическом функционировании каждый из компонентов, используемых психическим аппаратом, обладает особой функцией и направлением (от влечения до вербализации), благодаря чему между различными функциями формируются корреспондирующие отношения (например, между идентичностью восприятия и идентичностью мышления). Все психическое функционирование построено на ряде связей, которые соединяют один элемент с другим. Простейший пример - соотношение сновидения и фантазии. Более сложные связи ведут к сравнению первичного и вторичного процессов. Эти процессы связаны отношениями не только противостояния, но и сотрудничества, ведь в противном случае мы не смогли бы перейти от одной системы к другой и перевести, например, явное содержание в латентное. Но мы знаем, что это становится возможным только благодаря интенсивной работе. Работа сновидения отражает работу анализа сновидения. Все это подразумевает, что эти связи могут быть установлены на основе функционального различения: сон следует считать сном, мышление - мышлением и т.д. Но в то же время сон - не просто сон, мышление - не просто мышление и т.д. Мы вновь обнаруживаем двойственную природу связи-воссоединения и/или сепарации. Это то, что называется внутренними связями символизации. Они связывают различные элементы одной и той же структуры (в снах, фантазиях, мыслях и т.д.) и структур, одновременно обеспечивая связность и прерывность психической жизни. В аналитической работе это подразумевает, со стороны пациента, что он принимает аналитика за того, кем тот является, и в то же время за того, кем тот не является, но при этом в состоянии поддерживать это различие. И, наоборот, это подразумевает, что аналитик может занимать такую же позицию по отношению к пациенту.
В структурах, о которых мы говорим, очень трудно установить внутренние связи символизации, потому что различные типы используются как «вещи» (Bion, 1962, 1963). Сны, не образуя объекта психической реальности, привязаны к телу (Pontalis, 1974); очерчивая границы внутреннего личного пространства (Khan, 1972c), они обладают эвакуирующей функцией. Фантазии репрезентируют компульсивную деятельность, цель которой - заполнять пустоту (Winnicott, 1971), или принимаются за реальные факты (Bion, 1963). У аффектов репрезентативная функция (Green, 1973), а действия больше не обладают силой изменять реальность. В лучшем случае они обеспечивают коммуникативную функцию, но чаще служат для того, чтобы освобождать психику от непереносимо большого количества стимулов. Психическое функционирование в целом подчинено модели действия, возникшей вследствие невозможности редуцировать огромное количество аффектов; мыслительной проработки, которая могла бы повлиять на них, либо не было вовсе, либо это было жалкое ее подобие, карикатура (Segal, 1972). Бион (1963) далеко продвинулся в изучении внутреннего ментального функционирования. Экономическая точка зрения здесь очень важна, при условии, что мы не будем ограничиваться количественными связями и включим роль объекта в способность трансформироваться. Функция сеттинга заключается также и в том, чтобы посредством психического аппарата аналитика переносить и редуцировать крайнее напряжение, чтобы в конце концов приблизиться к объектам мышления, способным занять потенциальное пространство.
Нарциссизм и объектные отношения
Мы сейчас сталкиваемся с третьей топографической моделью, разработанной в аналитическом пространстве в терминах «я» и объекта. Но в то время как понятие объекта принадлежит старейшей психоаналитической традиции, термин собственное «я», самость - недавнего происхождения и остается неточным понятием, которое используется в самых разных смыслах (Hartmann, 1950; Jacoson, 1964; Winnicott, 1960a; Lichtenstein, 1965). Возрождение интереса к нарциссизму, отошедшему на второй план, когда стали изучаться объектные отношения, показывает, как трудно заниматься серьезными исследованиями такого рода, если не чувствуешь потребности в дополняющей точке зрения. Так появилось понятие самости. Однако любые серьезные рассуждения на эту тему должны затрагивать проблему первичного нарциссизма. Бален полностью опровергает его в пользу первичной любви; это опровержение, несмотря на убедительные аргументы, не помешало другим авторам защищать его автономию (Grunberger, 1971; Kohut, 1971; Lichtenstein, 1964). Розенфельд (1971b) связал его с инстинктом смерти, но подчинил объектным отношениям.
Неопределенность представлений об этом предмете восходит еще к Фрейду, который, введя понятие нарциссизма в свою теорию, быстро потерял к нему интерес и переключился на инстинкт смерти - идею, вызвавшую, как мы знаем, сопротивление у некоторых аналитиков. Кляйнианская школа, усвоившая точку зрения Фрейда, как мне кажется, усилила путаницу, смешав инстинкт смерти с агрессией, которая изначально проецировалась на объект. Даже если объект внутренний, агрессия направлена центробежно.
Возрождение понятия нарциссизма не ограничивается открытыми ссылками на него. Постоянно усиливается стремление к десексуализации аналитического поля, как если бы мы все время исподтишка возвращались к ограниченной концепции сексуальности. С другой стороны, развивались идеи, связанные с центральным нелибидинозным эго (Fairbairn, 1952) или с состоянием, в котором отрицаются все инстинктивные свойства (Винникотт и его ученики). На мой взгляд, все дело лишь в проблеме первичного нарциссизма - Винникот это все-таки заметил (1971), но не стал уточнять. Первичный нарциссизм - предмет противоречивых определений в работах Фрейда. В одних случаях он под этим имеет в виду объединение аутоэротических влечений, способствующих ощущению единства личности; в других - подразумевает изначальный катексис недифференцированного эго, где речь о единстве уже не идет. Другие авторы опираются то на первое определение, то на второе. В отличие от Кохута, я полагаю, что на примитивную нарциссическую природу, конечно, указывает направление катексиса, а качество катексиса (грандиозное «я», зеркальный перенос и идеализация объекта), которое в итоге заключает объект в форму «сэлф-объекта», вторично. Эти аспекты имеют отношение к нарциссизму «объединения», а не к первичному нарциссизму в строгом смысле.
Lewin (1954) напоминает нам, что желание заснуть, т.е. достичь как можно более полного состояния нарциссической регрессии, преобладает в аналитической ситуации, подобно тому, как достижение этого состояния является конечным желанием в сновидениях. Нарциссизм сна отличается от нарциссизма сновидений. Существенно, что описанная Lewin оральная триада состоит из двойных отношений (напр., есть - быть съеденным) и стремится к нулю (засыпанию). Винникотт, описывая ложную самость (которую также можно рассматривать как дубль, поскольку она связана с образованием на периферии самости образа себя, который приспосабливается к желаниям матери), приходит в своей примечательной статье к выводу, что истинная самость безмолвна и изолирована в постоянном состоянии не-коммуникации. Это подразумевает сам заголовок статьи «Communicating and Non- Communicating Leading to the Study of Certain Opposites» (1936а). Здесь снова, похоже, построение оппозиций связано с состоянием не-коммуникации. Для Винникотта это отсутствие коммуникации ни в коем случае не является патологическим, поскольку оно позволяет оберегать самое существенное в самости - то, что не подлежит коммуникации, и к чему аналитик должен научиться относиться с уважением. Но, похоже, в конце работы Винникотт идет еще дальше, по ту сторону оберегающего пространства, где укрываются субъективные объекты (см. его приложение 1971 года к статье о переходных объектах; Winnicott, 1974), формулируя проблему еще более радикальным образом - признавая роль и значение пустоты. Например: «Пустота - это предпосылка собирания» и «можно сказать, что существование может начаться только из не-существования» (Winnicott, 1974). Все это заставляет нас пересмотреть Фрейдову метапсихологическую гипотезу первичного абсолютного нарциссизма: дело тут скорее в стремлении как можно ближе подойти к нулевой степени возбуждения, а не в идее единства. Клиническая практика все больше нас в этом убеждает, и с технической точки зрения такой автор, как Бион - который, тем не менее, кляйнианец - рекомендует аналитику добиваться состояния, лишенного воспоминаний или желаний, состояния непознаваемого, которое вместе с тем является точкой отсчета для всякого знания (1970). Такая концепция нарциссизма, хотя ее и придерживается меньшинство аналитиков, всегда была объектом плодотворных размышлений, но сосредотачивалась в основном на положительных аспектах нарциссизма, принимая в качестве модели состояние насыщения, которым сопровождается удовлетворение и которое восстанавливает состояние покоя. Ее негативный двойник всегда встречал большое сопротивление в том, что касалось теоретических формулировок. Однако, большинство авторов признают, что защитные маневры пациентов с пограничными состояниями и психозами направлены большей частью на борьбу не только со страхами первичного нарциссизма и связанной с ними угрозой аннигиляции, но также против столкновения с пустотой, которая, возможно, является самым непереносимым состоянием, вызывающим у пациентов страх: оставленные им рубцы вызывают состояние вечного неудовлетворения.
По моему опыту рецидивы, всплески агрессии и периодические коллапсы после прогресса указывают на потребность любой ценой сохранить отношения с плохим внутренним объектом. Когда плохой объект теряет свою силу, единственным выходом будет, как кажется, попытка снова его вызвать, воскресить в виде другого плохого объекта: они похожи с первым как братья, и пациент может идентифицироваться с этим вторым объектом. Дело здесь не столько в неустранимости плохого объекта или в желании быть уверенным, что ты его таким образом контролируешь, сколько в страхе, что исчезновение плохого объекта заставит пациента столкнуться с ужасами пустоты, при том, что не будет никакой возможности когда-либо заместить его хорошим объектом, даже если этот последний и окажется в пределах досягаемости. Объект плох, но он хорош тем, что существует, даже если он и не существует в качестве хорошего объекта. Цикл уничтожения и повторного возникновения напоминает многоглавую гидру и, похоже, повторяет модель теории (в том смысле, в каком этот термин употреблялся раньше) создания объекта, которую, как говорил Фрейд, можно узнать в ненависти. Но это компульсивное повторение происходит потому, что здесь пустота может быть катектирована только негативно. Отказ от объекта ведет не к катексису личного пространства, а к мучительному стремлению к ничто, которое затягивает пациента в бездонную яму и приводит его в конце концов к негативным галлюцинациям о самом себе. Стремление к ничто - это нечто куда большее, чем агрессия, которая представляет собой лишь одно из его следствий. Это истинное значение инстинкта смерти. Отсутствие матери служит ему, но создает ли оно его? Можно спросить, почему нам так нужна забота, чтобы предотвратить его появление. Поскольку объект не обеспечил чего-то, остается только одно - полет в ничто, как если бы состояние покоя и умиротворенности, которым сопровождается удовлетворение, обретается с помощью чего-то противоположного удовлетворению - не-существования какой бы то ни было надежды на удовлетворение. Именно здесь мы находим выход из отчаяния, когда прекращается борьба. Даже те авторы, которые особенно подчеркивают преобладание агрессии, вынуждены были признать его существование (Stone, 1971). Мы обнаруживаем его следы в психотическом ядре (чистый психоз), а также в том, что недавно было названо «чистой самостью» (Giovacchini, 1972b).
Таким образом, мы должны соединить два следствия первичного нарциссизма: позитивный результат регрессии после удовлетворения и негативный результат - создание подобного смерти покоя из пустоты и ничто.
В другой работе я выдвинул теорию первичного нарциссизма (Green, 1967b) как структуры, а не просто состояния, где наряду с положительным аспектом объектных отношений (видимость и слышимость), неважно, хорошие они или плохие, проявляется и негативный аспект (невидимость, безмолвие). Негативный аспект создается интроекцией, возникающей тогда же, когда материнская забота создает объектные отношения. Он соотносится со структурной схемой заботы посредством негативных галлюцинаций о матери во время ее отсутствия. Это лицевая сторона того, чьей изнанкой является галлюцинаторная реализация желания. Пространство, граничащее таким образом с пространством объектных отношений - это нейтральное пространство, которое отчасти может насыщаться пространством объектных отношений, но отличается от него. Оно создает основу для идентификации, а отношения поддерживают непрерывность ощущения существования (образуя личное тайное пространство). С другой стороны, оно может опустошаться из-за стремления к не-существованию, посредством выражения идеала, самодостаточности, которая постепенно сводится к самоаннигиляции (Green, 1967b, 1969a). Но не следует ограничиваться терминами пространства. Радикальный катексис также влияет и на время, подвешивая переживание (что очень далеко от вытеснения) и создавая «мертвое время», в котором не может быть символизации (см. «лишение права выкупа» у Лакана, 1966).
Клиническое приложение этой теории можно видеть в течение анализа, именно это больше всего стимулирует воображение аналитика, поскольку избыток проекций часто оказывает шокирующий эффект. Но что-то от этого остается даже в самом классическом анализе. Это заставляет нас пересмотреть вопрос молчания при лечении. Недостаточно сказать, что, помимо того, что он что-то сообщает, пациент также сохраняет внутри себя безмолвную зону. Нужно добавить, что анализ развивается так, как если бы пациент делегировал эту безмолвную функцию аналитику, его молчанию. Однако, как мы знаем, в некоторых пограничных состояниях (situations limites) молчание может переживаться как молчание смерти. Это сталкивает нас с техническими трудностями - что выбрать? На одном полюсе - техника, предложенная Балинтом: попытаться как можно меньше организовывать (структурировать) переживание, чтобы оно развивалось под благожелательным покровительством аналитика с его чутким ухом, чтобы подбодрить «новичка». На другом полюсе кляйнианская техника: наоборот, как можно больше организовывать (структурировать) переживание посредством интерпретативной вербализации. Но разве нет в этом противоречия: утверждать, что объектные отношения в психотической части личности подверглись преждевременному образованию, и в то же время реагировать на это интерпретациями, которые грозят воспроизвести эту преждевременность? Разве это не опасно - переполнять психическое пространство вместо того, чтобы помочь сформировать позитивный катексис пустого пространства? Что же структурируется таким образом? Скелет переживания или его плоть, которая необходима пациенту для жизни? Со всеми этими оговорками я должен признать сложность тех случаев, за которые берутся кляйнианцы - это вызывает уважение. Между двумя крайностями находится техника Винникотта, которая отводит сеттингу надлежащее место, рекомендует принять эти несформированные состояния и занять позицию не-вторжения. Через вербализацию он восполняет нехватку материнской заботы, чтобы поощрить возникновение отношений с эго и с объектом, пока не наступит момент, когда аналитик сможет стать переходным объектом, а аналитическое пространство - потенциальным пространством игры и полем иллюзии. Техника Винникота мне очень близка, я стремлюсь к ней, хоть и не в состоянии ею овладеть - все это происходит потому, что, несмотря на риск воспитать зависимость, эта техника, как мне кажется, единственная отводит понятию отсутствия его законное место. Дилемма, которая противопоставляет навязчивое присутствие - ведущее к бреду (dйlire) - пустоте негативного нарциссизма, ведущей к психической смерти, модифицируется с помощью превращения бреда в игру, а смерти в отсутствие, через создание игрового фона потенциального пространства. Это заставляет нас принять в расчет понятие дистанции (Bouvet, 1958). Отсутствие - это потенциальное присутствие, условие возможности не только переходных объектов, но и потенциальных объектов, необходимых для формирования мышления (см. «не-грудь» Биона, 1963, 1970). Эти объекты не присутствуют, они неосязаемы - это объекты отношений. Возможно, единственная цель анализа - способность пациента быть одному (но в присутствии аналитика), но в одиночестве, наполненном игрой (Winnicott, 1958). Полагать, что все дело в превращении первичного нарциссизма во вторичный - значит проявлять либо излишнюю ригидность, либо излишний идеализм. Точнее было бы сказать, что это вопрос инициирования игры между первичным и вторичным процессами, с помощью процессов, которые я предлагаю называть терциарными (Green, 1972): они существуют только в качестве процессов отношений.
Заключительные замечания
Сделать заключение значит не закрыть работу, а открыть дискуссию и передать слово другим. Выход из кризиса, в котором находится психоанализ, не находится исключительно внутри самого психоанализа. Но в распоряжении анализа есть некоторые карты, расклад которых определит его судьбу. Его будущее зависит от того, каким образом он сумеет, сохранив наследие Фрейда, объединить его с более поздними достижениями. Для Фрейда не существовало проблемы предшествующего знания. Несомненно, для изобретения психоанализа необходим был его творческий гений. Работы Фрейда стали основой наших знаний. Но аналитик не может практиковать психоанализ и поддерживать в нем жизнь, если он не будет приумножать знания. Он должен попытаться быть креативным в пределах своих способностей. Возможно, именно поэтому некоторые из нас расширяют границы того, что подлежит анализу. Примечательно, что попытки анализировать эти состояния увенчались расцветом теорий воображения - для некоторых этого слишком много, т.е. много теорий и слишком много воображения. Все эти теории пытаются сконструировать предысторию там, где нет и намека на историю. Прежде всего это показывает, что мы не можем обойтись без мифического происхождения, подобно тому, как ребенок создает теории, и даже романы, о своем рождении и младенчестве. Несомненно, наша роль не в том, чтобы воображать, а в том, чтобы объяснять и преобразовывать. Однако Фрейд нашел в себе мужество написать: «без метапсихологических спекуляций и теоретизирования - я чуть было не сказал: «фантазирования» - мы не сможем сделать еще один шаг вперед» (1973a, p. 225). Мы не можем согласиться, что наши теории - фантазии. Лучшим решением будет согласиться, что они представляют собой не выражение научной истины, а приближение к ней, ее аналог. Тогда не будет вреда в конструировании мифа о происхождении, при условии, что мы знаем - это всего лишь миф.
За последние двадцать лет психоаналитическая теория была свидетелем значительного развития генетической точки зрения (см. обсуждение ее в Lebovici & Soul, 1970). Я не собираюсь пускаться в критику наших психоаналитических концепций развития, многие из которых, на мой взгляд, усвоили непсихоаналитическое понятие времени, но мне кажется, что пришло время уделить большее внимание проблемам коммуникации, не ограничивая ее вербальной коммуникацией, но учитывая также ее зародышевые формы. Это заставляет меня подчеркивать роль символизации - объекта, аналитического сеттинга, а также не-коммуникации. Возможно, это позволит нам также затронуть проблему коммуникации между аналитиками. Непрофессионалы часто поражаются тому, что люди, чья профессия - слушать пациентов, так плохо умеют прислушиваться друг к другу. Я надеюсь, что эта работа, в которой показано, что все мы сталкиваемся со схожими проблемами, внесет свой вклад в умение слушать другого.