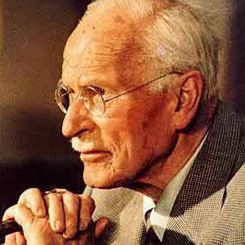"Сексуальные свободы против высвобождения сексуальности: можно ли помыслить психоанализ без сексуальности"
Смулянский Александр
Доклад на XXXII Конференции МААП 18/10/2024
Позади нас более чем столетняя прерогатива понятия сексуальности в самых различных средах знания, включая психоанализ, которому принято в этом отношении отдавать дань первооткрывателя. В связи с этим я предлагаю окинуть взглядом историю самой мысли о сексуальности в психоанализе. Следует сказать, что это не самый распространенный угол зрения: он не предпослан уже самой ситуацией в психоаналитической теории, для которой сексуальность является универсальным дисциплинарным горизонтом, неприкасаемым изнутри фоном, происходящие на котором события вследствие этого получают определенную пристежку. Кажется, что помыслить что-либо в психоанализе, или же помыслить нечто психоаналитически – на самом деле, это не одно и то же, но я не буду на этом различии задерживаться – без сексуальности невозможно: сексуальность – это начало и завершение любой мысли, имеющей отношение к психоанализу. Так на это смотрят и психоаналитик, и обыватель снаружи психоаналитической практики, и даже если основания их взгляда различны, в общей оценке роли сексуальности для психоанализа они согласны совершенно и полностью. Сексуальность и ссылка на нее представляется основой для любого психоаналитического суждения.
В связи с этим может быть полезным напоминание о том, что сексуальность остается если не пробным, то подвижным камнем в общей системе психоаналитического знания – я напомню, что это знание о том, как субъект желает и как он желание отправляет. С одной стороны, включение сексуальности в психоанализ в качестве основания для психоаналитического суждения значительно упрочило позиции сексуальности как особого региона реальности – именно благодаря психоанализу появляется возможность говорить о сексуальности как о том, что «в действительности» с субъектом происходит. Во многих сферах, в том числе далеких от психоанализа (например, в кинематографе, искусстве или социальном активизме) эта возможность говорить о сексуальности «как о том, что в действительности происходит» – стала событием, растянувшимся почти до конца прошедшего века. Тем не менее, сегодня, похоже, следствия этого события исчерпаны, косвенным свидетельством чему служит признаки консерватизации на новой почве.
Я скажу об этом позднее, но прямо сейчас хочу обратить внимание на то, какое значение это превознесение сексуальности как «вопиющей реальности» субъекта и его душевной жизни в целом имело для самого психоанализа. Одно из следствий бросается в глаза настолько и в то же время так редко осознается в самом психоанализе, что в свое время Мишель Фуко при всей своей антипатии к психоанализу счел необходимым сказать это специально: психоанализ делает вид, что он все время разыскивает истину посредством изучения сексуальности, и в этом может состоять его заблуждение. Я бы добавил лишь то, что вследствие преобладания ссылок на сексуальное психоанализ остается зависим от истины в ее самом распространенном, обывательско-мистическом изводе – от истины, понимаемой как то, что «происходит на самом деле», зависим от пародии на озвучивание «последней реальности» происходящего – зависимость очевидная и в то же время плохо увязывающаяся с тем, что можно назвать диалектическими притязаниями психоанализа, поскольку внутри своей теории анализ может быть гораздо более эпистемологически изысканным. Сегодня должно быть скорее удивительным, как долго эта зависимость от сексуальности как истины не только выдерживала испытание временем, но и продолжает для психоанализа оставаться пропуском в широкие массы – тем, что обеспечивает одновременную эксклюзивность и популярность психоанализа в ее глазах.
Необходима альтюссерианская инверсия, которая поставила бы вещи в иное соотношение, даже если оно может показаться непривычным. Подобная инверсия в нашей области выглядела бы следующим образом: мы должны предположить, что сексуальность ничего не объясняет в характере отправлений желания – напротив, она сама еще должна быть объяснена и проверена на предмет ее обоснованности в качестве концепции и, возможно, даже необходимости ее нахождения среди ключевых понятий психоанализа. Я попробую привести этому ряд оснований.
Так, интересно, что в отношении источников, чья базированность на тематике сексуального как будто не вызывает ни малейших сомнений, при их толковании всегда появляются характерные сложности, затушевывающие то, что до того казалось неопровержимо ясным. Кто усомнится, к примеру, что произведения маркиза де Сада представляют собой повествование о возможностях и пределах человеческой сексуальности, что ее роль в самом тексте является первоочередной? Убежденность читателей в этом настолько высока, что существует даже специальное объяснение, почему писания Сада – фантастически нелепые, как мы знаем, хотя потому и прелестные – имеют к настоящей человеческой сексуальности вполне реальное отношение: дескать, невзирая на нагромождение преувеличений в описании гиперсексуальных злоупотреблений, совершаемых героями, текст дает представление о вполне реальной трансгрессии, которую любое присутствие сексуальности в человеческое существование вносит. Здесь ничего нельзя преувеличить, поскольку сама сексуальность и есть выход за пределы существующих рамок, и это обеспечивает «философскую» достоверность текстов де Сада даже там – и именно там – где они вопиюще недостоверны событийно и психологически.
Существуют, к примеру, феминистские вариации этого объяснения, целью которых оказывается заклеймление этой сексуальной трансгрессивности: да, описанное де Садом малоправдоподобно, но существует, в конце концов, множество вполне реальных, не просто жестоких, но и причудливых мерзостей, совершаемых – например, мужчинами – на базе сексуального влечения, и многие из этих вещей до сих пор никакого предметного описания – и, соответственно, общественной огласки – не получили. Де Сад в этом отношении – не с моральной стороны, а исключительно с точки зрения предоставления сцены для подобной огласки – оказывается идущим рука об руку с флешмобами в духе metoo. «Опьяненный влечением мужчина совершает ужасные вещи» – вот основной вывод, который из подобной огласки неизменно делается.
Тем не менее, при попытке более детального анализа немедленно наступают сложности в соотнесении и размещении понятия сексуального в садовских романах. Так, их герои предположительно садистичны – во всяком случае, совершают определенные действия и одновременно показывают определенные душевные движения удовольствия по их поводу – но является ли сексуальность тем, что эту садистичность объясняет, дает для нее основу, стоит за ней в качестве ее истины? С этим выводом многие из пассажей Сада идут вразрез:
«Я познакомилась, – сказала эта милая девушка, – с человеком, страсть которого состояла в том, чтобы слышать, как дети издают громкие крики. Ему нужна была мать, у которой был бы ребенок трех или четырех лет; он требовал, чтобы мать била ребенка перед ним; когда маленькое создание начинало плакать, нужно было, чтобы мать завладела хоботом негодяя и качала его перед лицом ребенка, в нос которого он и извергал семя, едва видел, что тот в слезах» («120 дней Содома, или школа разврата»).
На первый взгляд, тезис о сексуальности, которая является для трансгрессии основой, здесь находит иллюстративное подтверждение, но принять его мешает факт того, что сексуальное – с его презентационной стороны, как явленное действие, или акт – входит в само трансгрессивное отправление в качестве элемента: сексуальность как конкретное явление полового влечения с разрядкой является одним из действий в рамках того, что здесь выступает как «трансгрессивное». Таких смещений с включением сексуального в акт садистической презентации у Сада великое множество: практически все сильные сцены, по которым легко при их воспроизведении его тексты опознать, являются результатом этой операции смещающего включения сексуальности в более обширный акт жестокой реализации персонажа. Из-за этого де садовский текст фактически говорит следующее: сексуальность и ее реализации – это всего лишь еще одно средство причинения неудобства, один из способов – пусть даже яркий и по-своему выдающийся – проявить жестокость к ближнему, а вовсе не причинная «подоплека» и резервуар садистических отправлений, как мы привыкли это видеть благодаря классикам психоанализа. По существу, литературные работы де Сада являются не воспеванием всемогущей сексуальности, лежащей у любого деяния (и, тем более, злодеяния) в основе, а, наоборот, самым сильным аргументом против помещения сексуальности в основу влечений.
Это частично подтверждается тем, что всякий раз, когда в речах и беседах героев дело доходит до возможного обсуждения того, что делает их по-настоящему удовлетворенными своими жестокими действиями – даже счастливыми – они не могут сказать ничего толкового, кроме сообщения о других своих – уже реализованных или же еще нет – абсолютно конкретных фантазиях о том, как именно очередная жертва была или будет употреблена и унижена. Сама причина наслаждения при этом остается неопределенной, и это не та хорошо знакомая нам по популярному психоанализу неопределенность, которая вызвана сокрытием какой-либо глубокой и потаенной причины (предположительно, погребенной в бессознательном). Напротив, неопределенность заложена здесь в том же самом нарративно-внешнем размещении планов повествования: за действиями героев нет никакой обширно понимаемой «сексуальности» (как основного «материального базиса» их действий); напротив, сексуальность в лице ее проявлений свободно подвешена в компании прочих способов причинения боли и страданий, тогда как на месте причинной основы, первоисточника действий находится пустота. Именно из-за этого невозможно ничего сказать о «желании» героев в специальном смысле этого психоаналитического термина: у этих героев есть влечения и фантазии, но нет ни желания, ни фантазма.
Тот факт, что речь идет всего лишь о персонажах, не должен скрадывать все трудности, возникающие в те моменты, когда сексуальность служит несущей опорой – в том числе, трудности методологические. Об этом следует говорить специально, поскольку сексуальность устойчиво связывается в психоанализе, как и за его пределами, с почти бесконечным расширением возможности говорить о самых разнообразных сторонах человеческого функционирования. Известно, что с момента появления психоанализа сексуальность выступает своеобразным «фестивальным» элементом теории – я имею в виду ее аттракторную функцию, поскольку также очень хорошо известно, каким притягательным для слушателей Фрейда было оповещение о сексуальном характере всех без исключения влечений. Возможность срывать покровы при помощи подключения ссылок на сексуальность – например, в описании неврозов – была задействована Фрейдом во всех ее следствиях, включая следствия придания психоаналитической теории флера жертвенной убедительности. Исследование, которое задействует сексуальность так смело и с таким риском для создателя, одном этим фактом может быть оправдано в глазах просвещенной части публики.
Тем не менее, ограничиться пониманием роли сексуальности в учении Фрейда в качестве в том числе рекламного, броского элемента ни в коем случае нельзя не только потому, что она, разумеется, никогда к этому не сводилась. Прежде всего, таким образом еще ничего не было бы сказано не столько о возможном «злоупотреблении» сексуальностью и ссылками на нее в ходе распространения свежеизобретенного психоаналитического учения (что на деле не является недостатком или чем-то, что можно поставить Фрейду в вину, поскольку такова начальная стратегия любого научного проекта, делающего упор на новое или впервые задействованное его силами понятие), но и о тех злоупотреблениях, которые сама сексуальность на уровне понятия совершает в отношении других элементов и линий построения аналитической теории.
Можно привести пример, касающийся аналитического понимания объекта и связанной с ним потребности: я имею в виду предпринятую Фрейдом остроумную демонстрацию того, что само явление потребности у взрослого индивида не меняется ввиду того, что годы жизни сделали его дееспособным. Невзирая на возросшую с возрастом способность к отсрочке удовлетворения побуждения, связанные с объектом потребности в остальном сохраняют «инфантильный» облик, в котором явили себя с самого начала его младенческого развития, из-за чего можно сказать, что на протяжении всей жизни субъект в первый момент адресуется к объекту так же, как делал это в колыбели – поспешно и жадно.
Известно, что Лакан революционно переворачивает и одновременно продвигает вперед это соотношение. Вместо того, чтобы, как это фактически делал Фрейд, заявлять, как в известном интернет-меме, что, на самом деле, «нет никаких взрослых», Лакан предпринимает прорисовку графа, показывающего, что любой субъект с самого начала своего появления и на протяжении всей жизни находится в наиболее высокой логической точке отношения с объектом как остатком требования Другого, и дитя не является в этом отношении исключением.
Эта переработка фрейдовской мысли возникла по ряду причин, включая собственный лакановский гегельянский background с вытекающим из него представлением о «вечном настоящем» (знаменитая фраза из «Лекций по философии истории» – «Дух еще содержит в себе ступени прошлого, а жизнь духа заключена в истории, которая есть круговорот различных ступеней»). Отдельную роль также сыграло происходящее на глазах у Лакана распространение в тогдашнем психоанализе различных теорий, связанных с подчеркиванием важности «привязанностей»: захваченные этими теориями, аналитики могли буквально верить в возможность сохранения «неснятого детского» в субъекте, обделенном в чем-либо со стороны родителя в ходе своего раннего развития, как если бы возникшая здесь недостача должна быть специально доработана и «компенсирована» анализом во взрослом возрасте.
Напротив, для Лакана не существует ничего подобного этой отсроченной компенсации: различие между ребенком и взрослым состоит лишь в способности предъявить актуальные, имеющие место в настоящем отношения с объектом потребности – в том числе, в собственном анализе. Облик последнего также может разниться в зависимости от того, в каком возрасте его проходят: другими словами, для лакановских аналитиков дети существуют как особые анализанты, требующие корректив и специальных изобретений в ходе работы с ними, но при этом не существуют как особые субъекты отношений с потребностью, отличных от отношений взрослого (и потому, якобы, незрелых или неполных). Предпринятое Лаканом изучение проявляемых в детском периоде потребностей показывает, что последние не являются в специальном смысле слова «детскими»: речь лишь об определенном способе, которым с этими потребностями субъект имеет дело – о том, с чего он поневоле начинает желать – например, с груди – притом, что это начало может быть достаточно развитым и во многом опережающим общие представления о том, что детству может быть доступно. Другими словами, взаимодействие с объектом определяется логикой самого процесса взаимодействия, а не стартовой точкой, с которой субъект в него входит. Именно по данной причине диалектическая драма потребности как смещенной на сторону Другого нужды в удовлетворении требования, воспринятой адресатом требования как собственная нехватка, представлена в случае ребенка в таком же объеме, как и у самых цветущих взрослых невротиков.
Прийти к этой мысли о несуществовании «детского» на уровне потребности (равно как и отличного от него «взрослого») Лакан очевидно смог благодаря предшествующему аналитическому представлению о «непрерывности сексуального» и создаваемым этим представлением предпосылкам к синхроническому взгляду на то, что для взгляда диахронического представлено как протяженное во времени и разбитое на стадии психическое развитие.
Можно заметить, что в логике аналитической мысли так происходит очень часто: введение единой и непрерывно прижизненно действующей для каждого человеческого существа его собственной сексуальности служит хорошим объяснением для вещей и явлений, находящихся в этом существе условно за пределами сексуальности – мы сейчас намеренно подвешиваем распространившийся благодаря психоанализу способ объяснять все явления в субъекте как непременно состоящие с сексуальностью в той или иной связи, поскольку сейчас гораздо важнее проследить работу самого понятия сексуальности в психоаналитическом нарративе. Непрерывность сексуального развития как раскрытия и игры различных воплощений «одной и той же» сексуальности (например, в детском и взрослом периоде) позволяет продвинуться в объяснении многих других линий преобразования субъекта – например, в понимании логики потребностей – но сама по себе эта непрерывность не добавляет никаких сведений к пониманию самой сексуальности, к раскрытию ее черт или к возможному освещению ее «вещи в себе».
Фактически, сексуальность даже у придававшего ей почти буквальное значение Фрейда нередко выполняет скорее функцию методологического штифта: понятия, не столько объясняющего, сколько позволяющего операции с другими понятиями. Многие из этих операций оказались для психоанализа очень плодотворны, но в то же время именно претендующая на центрообразование встроенность понятия сексуальности в тело метода вторым шагом «крадет» у других операций возможный потенциал как в области того, что они способны объяснить, так и в возможности объяснить их самих. Другими словами, мы несомненно очень много узнали о явлении потребности благодаря ее теоретической скрепленности с понятием сексуального, но можно также спросить и о том, что именно о потребности в силу этой нерушимой скрепленности мы уже никогда – по крайней мере, на территории психоанализа – не узнаем.
Именно по этой причине в одном из докладов на недавней психоаналитической конференции я назвал сексуальность «идеологемой психоанализа», придав ей институциональное значение, показывая, что именно концентрация всех психоаналитических понятий вокруг концепции сексуальности позволила свершиться иной концентрации: консолидации институционального психоаналитического тела сообществ специалистов вокруг теории и практики анализа.
Именно здесь вскрывается то, что можно назвать настоящей – в смысле, реально действующей – ролью понятия сексуальности. Это понятие действительно лидирует в анализе, но центр лидерства смещен и находится в самом сообществе аналитиков: сексуальность и представление о ней, как о ведущей доминанте психоаналитического знания, и есть то, что удерживает их вместе.
Это выражается не только в одном лишь удержании групповой совместности, но и в большом количестве практик, которые из институционального поля спускаются, или переходят в клинический регистр. Данный переход важно зафиксировать отдельно, поскольку многие, в том числе являющиеся психоаналитиками, об этом переходе имеют самое смутное – или же только непосредственно-практическое – представление, вместо этого на теоретическом уровне уверенно полагая, что аналитическое вмешательство – это исключительно плод взаимодействия аналитика с собственными анализантами (в которое иногда по необходимости деликатно вмешивается супервизор).
Институциональные данные решительно это опровергают, что заметно в наиболее сильных и консолидированных психоаналитических сообществах, где существуют определенные практики, кодифицирующие не просто аналитическое поведение на сессиях и вне их, но и характер той регуляции, которую сам аналитик отправляет в отношении анализанта, одновременно получая от сообщества скрытое требование, чтобы эта регуляция непременно имела место. Можно сказать, что аналитики постоянно получают от своих сообществ и их лидеров двойное послание – то, что в психологии называют double-bind: с одной стороны, самим представлением об анализе от них требуется сугубый нейтралитет – то, что называют парящим, или беспредпочтительным отношением к предоставляемому анализантом материалу. С другой, аналитические школы требуют, чтобы аналитик непрестанно присматривался к тому, что в пациенте предстает наиболее неурегулируемым, и прилагал к его урегулированию возможные, допустимые границами анализа, усилия – и нет никакого чудесного совпадения или неожиданности в том, что этим неурегулируемым элементом снова оказывается сексуальность.
Так, можно вспомнить характерные для некоторых лакановских клинических сообществ представления о том, что истерической пациентке может угрожать ее собственная особым образом неотрегулированная сексуальность – так, в кругу основного лакановского преемника Жана-Аллена Миллера указание на это можно услышать до симптоматичного часто. Именно такая неурегулированная сексуальность способна не только толкнуть пациентку с истерией на нимфоманический путь (о чем чаще говорили аналитики скорее классической постфрейдовской школы), но и готовит еще более неожиданные сюрпризы (например, попытку сменить гендерную принадлежность). Также эта сексуальность угрожает и самому анализу в связи с тем, что в силу ее наличия пациентка может быть не в обычном переносе, а во власти какого-то иного, злокачественно маскирующегося под перенос отношения, сигналы которого небдительный аналитик может пропустить и, как транслирует Школа, постоянно находится под угрозой такого пропуска.
Результатом этого двойного сообщения аналитику становится обширная сеть внутриинституциональных зацеплений между членами школ, благодаря которым явно увеличивается количество власти, нисходящей от лидера школы по направлению к анализанту через его аналитика и после снова возвращающейся на верхи школ в качестве избытка, «прибыли власти» после того, как доносимая ей до низов (анализантов) регуляция прошла полный круг.
Помимо выполнения идеологической функции в аналитических сообществах, сексуальность – и я возвращаюсь к началу доклада – точно такую же, но еще более масштабную функцию сексуальность с момента введения ее психоанализом в действие играет в массовой идеологии, но с обратным знаком. Носитель этой идеологии достаточно быстро продвинулся в убеждении, что сексуальность должна быть освобождена, раскована, раскрепощена как может быть «раскован» и «раскрепощен» в переносном смысле слова субъект этой сексуальности, отбросив ложный стыд. Параллельно в философии (в том ее жанре, который Фуко называл «философской журналистикой») формируется особое представление о том, что, будучи раскрепощена, сексуальность сама способна раскрепостить субъекта в его отношениях с властью – то есть, мысль о сексуальном становится политической.
Вследствие плодов, которые эта философия принесла, как раз и получил существование общепринятый взгляд, предполагающий корреляцию между происходящей в обществах гражданской и политической эмансипацией и предположительно сопутствующим ей увеличением объемов "сексуальной свободы", включая свободу разнообразных демонстрационных операций в эротической плоскости. Преимущественно описывая ситуацию 20-ого века, взгляд, видящий эту связь, и сегодня принимает ее за непреложную закономерность, посредством которой оценивает в том числе колебания в современной властной конъюнктуре, принимая решения о степени ее прогрессивности или, напротив, консервативного регресса власти. Лицо политика или общественного активиста опознается как прогрессивное или регрессивное в зависимости от того, каков его взгляд на сексуальные свободы. До некоторой степени корреляция действительно имеет место: ее ситуация может показывать условно правильное время в некоторых странах в определенные периоды – всегда с оговорками, что критерий отношения властей или авторитарных масс к сексуальности не может являться ведущим и базовым в принятии решения относительно характера политического режима.
Сексуальность не является истиной в психоанализе, хотя тот может продолжать ее на месте истины удерживать, давая через нее ключевые объяснения. Но это означает также и то, что, не являясь психоаналитической (или политической) истиной, сексуальность в принципе истиной не является – заканчивается эпоха, в которой сексуальность служила хорошим объяснением всего: сновидений, неврозов, социальных взаимодействий, удовольствия от искусства. Я не говорю, что тем самым возможности психоанализа совершенно исчерпаны – напротив, последние оживления в нем не дают так сказать. Это удивительно, но современные психоаналитики как будто действительно научились в своих штудиях без какой бы то ни было ссылки на «сексуальность» обходиться.
Это стало возможным очевидно потому, что в психоанализе с самого начала были потенции – скорее избегаемые Фрейдом и его учениками, но развитые впоследствии, когда психоанализ прошел через теорию объектных отношений и, после, через структуралистское обновление – отказа от опоры на более или менее непосредственно воспринимаемую сексуальность. Сама судьба этого термина в анализе становится ознаменованием нарастающего расхождения между "сексуальным" и "эротическим", в особенности, понимаемым в терминах чувственности, – уже к моменту второй мировой войны в работах психоаналитиков от последней практически не остается никаких следов. Именно это позволило в дальнейшем появляться все более свободным и формальным психоаналитическим операциям с объектом, с означающим и, далее, с матемой – шаги, которые сохраняли видимость происходящего теоретического усовершенствования понимания «человеческой сексуальности», но на деле все меньше были обязаны таким образом поставленной задаче.
Сексуальность вошла в историю изобретения психоанализа и сделала психоанализ тем, чем он является – включая в том числе его особые слабые стороны, о которых было сегодня сказано – но пути психоанализа и сексуальности почти сразу начинают расходиться, и это разведение, вероятно, должно быть не только описано, но и простимулировано. Одновременно с этим – и в знак этого – необходимо перестать поддерживать постоянную политическую борьбу за общественное "сексуальное освобождение". Вместо этого следует искать другое определение "сексуального", которое само должно быть "высвобождено" трижды: от традиционного представления об эротически окрашенной чувственности; из эксплуатирующего ее классического психоаналитического подхода, вписавшего сексуальное в проект желания, заканчивающийся объявлением наличия «сингулярного желания», дело попечения о качестве которого берут на себя аналитические сообщества; и из политических представлений о сексуальном как средстве общественной эмансипации.